Валерий Суриков. Рассуждение о Солженицыне— читая «Август»
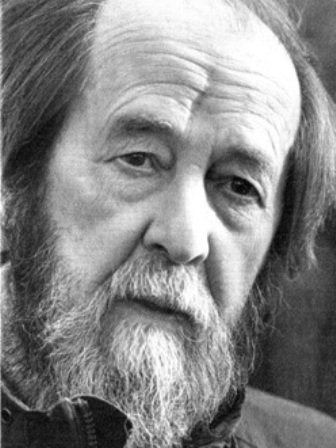
Назвав «Красное колесо» повествованием в отмеренных сроках, А. И. Солженицын изначально как бы отстранился от романной формы. Но, наверное, любое произведение, претендующее называться романом, является все-таки повествованием в строго отмеренных и тщательно выверенных сроках, когда предметом художественного исследования является не столько линия движения судьбы, души героя, сколько скрытая динамика этой линии: ее «производные» — ее «наклон» и «кривизна» — в каких-то особых, определяющих точках. В этом смысле А. Солженицын ничуть не оригинален. Своеобразие «Красного колеса» заключается не столько в методе исследования героя, сколько в том, что в качестве главного героя этой эпопеи выбрана революция. Неповторимость, «безумство», если угодно, солженицынского замысла заключается именно в этом — в намерении типизироватьреволюцию. Типизировать, оперевшись на тот эпохальный социальный катаклизм, которым она обернулась в России.
1
Чтобы конкретизировать эту рабочую гипотезу, обратимся к авторитетам: X. Ортеге-и-Гассету и Л. Толстому.
Мысли Ортеги-и-Гассета о романе крайне ортодоксальны. Но в то же время степень их насыщенности парадоксами порой настолько велика, что в приложении к конкретному материалу ортеговские жесткие рамки оказываются крайне подвижными — сформулированные им положения допускают расширительное толкование.
Из потребности заинтересовать нас романом «...автор должен не расширять наш повседневный горизонт, а, наоборот, максимально сузить его». Поэтому он должен «...изъять читателя из горизонта реальности, поместив в небольшой, замкнутый воображаемый мир, составляющий внутреннее пространство романа». Отсюда следует, что «...любой роман, чей создатель преследовал какую бы то ни было побочную цель, будь то политика, идеология, аллегория или сатира»,— нежизнеспособен, поскольку «всякая деятельность подобного рода несовместима с иллюзией... и выталкивает... нас наружу из вымышленного замкнутого пространства». Если принять эти рассуждения буквально, если вслед за Ортегой признать, что «задача романиста — притупить у читателя чувство действительности, под гипнозом заставить его вести мнимое существование», то придется признать и изначальную бесперспективность намерений писателя, берущегося за исторический роман: он «...либо искажает историю, слишком приближая ее к нам, либо снижает эстетическую ценность романа, слишком удаляя его в абстрактный план исторической истины»...
Как будто специально для А. Солженицына написаны эти слова... По отношению к обычному — классическому — роману, они, возможно, и справедливы. Однако стоит нам допустить, что А. Солженицын одним только своим замыслом — сделать главным действующим лицом своего романа революцию — сметает классические рамки, как условность ортеговских требований становится очевидной, а сами требования приобретают исключительную методическую ценность — превращаются во вполне конкретные вопросы к тексту «Красного колеса»: стремится ли А. Солженицын, при своем-то главном действующем «лице» романа, создать замкнутый воображаемый мир, притупить у читателя чувство действительности? В какой степени ему удается уйти от характеристик своего главного «персонажа», не увлечься его «судьбой», его «приключениями», но создать эффект его «непосредственного присутствия» (ортеговский императив романа)? Чем живо «Красное колесо» — своим материалом или своей формой? Укладывается ли «поведение персонажа» «... в рамки, заданные мнимой характеристикой автора», или же «образ героя» «...не только не соответствует авторской оценке, но находится с ней в явном противоречии»?..
Так или иначе отвечая на подобные вопросы, наверное, только и можно преодолеть, или смягчить по крайней мере, главный конфликт солженицынской прозы ( конфликт между ее собственно романным и историческим началами), не увлечься «явным» намерением самого А. Солженицына ( написать некраткий курс российской революции) и выявить намерение скрытое, интуитивное — разобраться в революции как таковой.
Своеобразие повествования А. Солженицына особенно четко просматривается на фоне романа Л. Толстого. Если Толстой ищет непременно надличностную развязку событий, и потому исторический поток становится у него фатальным, то у А. Солженицына роль личности подчеркнуто велика — в ней по преимуществу находит свое выражение историческая необходимость, через несыгранную в том числе или не так сыгранную роль личности история реализуется. Потому и оказывается у А. Солженицына столь значительной роль исторических случайностей. Даже сама российская революция предстает у него — может сложиться такое впечатление — не чем иным, как гигантской случайностью — событием, в лучшем случае ускоренным извне, но только не предопределенным всей предшествующей историей России.
Избыточная «персонализация» истории, собственно, и превращает у А. Солженицына революцию из объекта в субъект повествования, в его «персонаж», а само повествование — в роман. Роль объективных, социальных законов протекания революции при этом понижается — протекание становится поведением. Естественно, что одновременно снижается значение исторической концепции самого автора. Она, похоже, лишь запускает действие в повествовании, а далее — и, видимо, во многом независимо от воли и намерений автора — в действие вступает логика и нрав самой истории. Объективные же законы поглощаются броуновским движением случайностей.
Если Л. Толстой через часть (судьбы героев) воспроизводит целое (исторический процесс) — оно у Толстого складывается вокруг стержня его исторической концепции, если он в своем плавании через океан истории (образ В. Шкловского) строго ориентирован течением своей концепции, то у А. Солженицына целое — становящееся, оно — живой персонаж истории; оно и охватывается в целом — в решающих узлах своего становления: зачатие революции, ее пред родовые схватки, рождение, первые шаги — «Август», «Октябрь», «Март», «Апрель»; и через океан истории А. Солженицына несет стихия — стихия собственных страстей, воссозданная в стихии истории, внесенная в нее.
Историческая концепция и Л. Толстого и А. Солженицына носит частный характер: они оба обременены знаниями из будущего, они оба показывают историю «не совсем так». Но Толстой в своих исторических взглядах стремится быть историком, он чрезвычайно требователен к ним, он тщательно взвешивает и выверяет их (недаром же в прижизненных изданиях «Войны и мира» его рассуждения на темы истории то рассредоточиваются по главам романа, то изгоняются в приложение) — он в них недостаточно субъективен. Поэтому толстовская история холодна, расчетлива, предсказуема — она нехудожественна. В отличие от Л. Толстого, А. Солженицын и не пытается быть объективным — он субъективен в своих исторических воззрениях и пристрастиях принципиально, изначально. У него революция становится субъектом, персонажем — и истории, и его повествования. Субъектом живым, деятельным, своенравным, готовым в любой момент выкинуть какое-нибудь коленце. Эта «жизнь», эти «выламывания», эти «капризы» и становятся главным объектом художественного изучения.
Именно благодаря дерзкой, эпатирующей исторической субъективности и приходит А. Солженицын к объективности художественной. И точно так же, как классический художественный образ, навеянный жизнью и созданный фантазией художника, возносится над нашим материальным существованием, становится частью атмосферы, в которой человечество развивает, культивирует и оберегает свою духовность, и сам превращается в источник веяния, точно так же солженицынское житие революции, созданный им образ революции ( слишком уж узкий в силу своей субъективности для истории, слишком уж широкий в силу своей художественности для нее) если где и может найти свое место — прижиться и пустить корни — так это в духовной атмосфере общества.
Теория влияет, искусство веет — эта грань была намечена когда-то А. Григорьевым... (Вайман С. Вопр. лит. 1988. № 2). Не будет большим преувеличением сказать, что историческая концепция Толстого теоретична: она действительно является «экстрагированной из воздуха (бытия) идеей, деспотически завладевшей единичным духом». У А. Солженицына — то же экстрагирование и то же деспотическое владение. Но А. Солженицын рискнул захватившую его идею — свое частное знание о революции — воплотить как идею художественную. И извлеченная из дерзкой, отринувшей всякую объективность общественной атмосферы последней трети XX века, из его собственного, отягощенного и одновременно возвышенного жесточайшим личным опытом сознания, эта субъективная идея, облаченная в одежды художественного образа, вдруг стала утрачивать свою ожесточенность, одержимость, запальчивую воинственность. Она стала жить в его повествовании... И те качества, которые вносились А. Солженицыным в его концепцию революции как качества характеристические, как качества ее существа, стали превращаться в свойства развивающегося, становящегося характера. Заданная концепция под воздействием художественной формы «Красного колеса» начала как бы терять претензии на абсолютное знание, стала «неготовой», не столь «напряженной», в определенном смысле «невыгодной» — стала превращаться в веяние...
2
В своем обстоятельном исследовании творчества А. Солженицына Ж. Нива обращает внимание на склонность автора «Красного колеса» к проповеди (в публицистике, в частности) «своего рода эмпиризма... вопреки идеологии». Этот, если так можно выразиться, идеологический позитивизм, видимо, и подталкивает А. Солженицына к усилению чисто житейского, эмпирического при исследовании исторических лиц, обеспечивая ему необходимую внутреннюю свободу — способность к непроизвольному преодолению и обузданию собственных идеологических страстей...
Приземленным и беспомощным предстает в «Августе» Ленин. Его исключительная природная предрасположенность к власти и — полное отсутствие таковой: жалкое, бесцветное, провинциальное существование. Война для Ленина оказалась такой же неожиданностью, как и для рядового российского обывателя. Он суетлив и растерян; он не скрывает своей радости: как ловко выдернул его Ганецкий из австрийского плена — из-под внезапно двинувшегося колеса истории. Пока за появившимся здесь впервые образом колеса разве что объективный исторический процесс; да и цвет колеса едва лишь «угадан» в полутьме грядущих событий. Стать красным ему еще только предстоит, и во многом благодаря усилиям этого, едва не придавленного им сугубо частного лица. Колесо вынесет его из провинциальной глуши в самый эпицентр европейской политики, и только тогда окончательно обнаружится кровавая окраска. Сейчас же перед нами хоть и азартный, но мелкий заговорщик, беспомощный функционер разваливающейся, теряющей сторонников и поклонников партии. Россия стоит пока перед Зимним -.на коленях и с царским именем на устах.
Однако, во второй части ленинской главки «Августа» мысли и настроение Ленина резко меняются — в нем происходит почти мгновенный переход от растерянности, от испуга перед двинувшимся колесом к активному осмысливанию событий, к четкой политической программе: «не останавливать войну — но разгонять ее! но — переносить ее! — в свою собственную страну» Подключая к размышлениям Ленина эти мысли, которые им будут высказаны в столь ясной форме лишь спустя год, А. Солженицын теперь уже усиливает Ленина — все здесь представлено как прозрение частного лица, напряжением воли преодолевающего в себе комплекс неполноценности.
Эта стремительная ленинская реакция и — ватная, вялая рефлексия последнего российского императора...
В трактовке Николая II А. Солженицын — также на уровне эмпирическом, житейском. Но психологическая ситуация здесь уже иная: полное отсутствие способности к власти( а точнее слишком уж старомодная для начинающегося жесткого века способность, слишком уж из века девятнадцатого) — при невиданной концентрации ее в одних руках. «Как невыносимо быть императором... как хорошо и естественно — простым семейным человеком... почитывать историю прежних лет, тем приятную, что в ней все выборы уже сделаны...» — в этих словах заключена главная, конструирующая образ Николая II оценка.
Желание ко всему подойти «с хорошим сердцем»; недоверие к министрам и советникам и предпочтение людям, не занимающим никаких постов...— но почему-то жена и мать постоянно оказываются разных мнений, и все чаще приходится говорить: «Я так хочу...»; полная внешняя невозмутимость — неукоснительное следование ежедневному ритуалу домашних занятий, прогулок, церемоний...; искреннее доверие к другу и кузену Вильгельму II, который осторожно тем временем подталкивает Россию на Восток, к военному конфликту с Японией...; домашний по сути своей человек, любвеобильный, нежный, обижающийся даже на погоду; частное по призванию своему лицо, но волею судьбы получившее власть над будущим фактически всей цивилизации. Бесконечен здесь у А. Солженицына разрыв между реальными возможностями личности и теми задачами, которые обрушивает на нее история. И как следствие — усиливающаяся тяга императора к внешней опоре: на милого кузена, на Ея Величество, на мистический стержень своей власти.
Нет слов, роль исторической личности доведена здесь А. Солженицыным почти до абсурда. Но подобного насилия, увы, требует типизация российской революции. Художественная задача понуждает здесь сгущать краски — создавать максимально контрастный фон для другой исторической фигуры, для Столыпина, единственного из оказавшихся на политической сцене России того времени, кто искал для российской ситуации развязки стратегической, для которого эволюционное развитие уже тогда было целью практической политики.
Николай II ведет Россию к 17-му году с необходимостью, обреченно. Столыпин реально уводит ее от революции — так распределены А. Солженицыным роли... Именно Столыпин у него держит руку на пульсе истории — без него не понять истоков грядущих потрясений. В «руках» Николая II лишь исторически необходимые условия 17-го года, условия же достаточные — пока «в руках» Столыпина. Ему пока и первая партия в повествовании: после столыпинской главы появляется глава об императоре. И, более того, конец 1905 года в ней резко смыкается с июлем 1914-го — приторможенное Столыпиным Красное колесо вновь начинает набирать обороты.
3
Погружение исторической личности в эмпирику быта, даже при солженицынских крайностях, не заслуживало бы особого внимания в качестве художественного приема, если бы не было подчинено и подверстано к действительно оригинальному приему пространственно-временного сжатия. Само это сжатие есть не что иное, как насильственное формирование того замкнутого романного пространства, о котором ведет речь Ортега-и-Гассет. «Замыкание» здесь имеет место, видимо, и потому, что вместе со временем сжимается и авторская концепция революции — под колоссальным давлением собранных на ограниченном пространстве фактов, событий, поступков она неизбежно утрачивает амплуа внешней, «объективно» действующей и организующей повествование силы и превращается во внутреннюю, частную идею повествования.
Замыкающий эффект сжатия, видимо, достаточно капризен: будь оно чуть меньше (будь чуть меньше концентрация исторического материала) и конструкцию без внешнего каркаса абсолютно жесткой авторской концепции уже не удержать. Но когда сжатие достигает некоторого, критического предела, весь собранный материал начинает, похоже, держаться как единое целое сам по себе... И снимается, становится второстепенным вопрос об исторической логике. И начинается случайный выбор — случайные касания исторических лиц и событий. И реализуется то частное, приватное, что выделено, усилено, отретушировано в исторических лицах...
Сжатие, таким образом, и включает механизм случайных взаимодействий — главный, если разобраться, механизм всех крупных социальных событий. С этой деспотией случайностей при взгляде из будущего не просто смириться — допустить, например, что события начавшейся революции в любую минуту могут «потечь по совсем другому руслу»... Но и прекрасно, что могут,— значит, автору удалось передать нечто сущностное в этом социальном событии.
С пространственно-временным сжатием связаны, как кажется, и все солженицынские приемы второго порядка. Под его влиянием материал вдруг приобретает необычную текучесть, и тогда может появиться фиксирующий это течение киноглаз... Или, скажем, какие-то остатки, выжимки более или менее плавно уложенного в повествование материала вдруг вываливаются из текста и запрессовываются в него обрывками газетных заголовков и сообщений... Или неожиданно — под тем же сверхдавлением — вырвется пословицей глас народа, его уже давным-давно по всем поводам и случаям высказанные суждения...
Именно пространственно-временное сжатие дает ключ и к пониманию природы видимой психологической необеспеченности солженицынских персонажей. «Удивительно двусмысленной, шарнирной» находит, к примеру, Ж. Нива фигуру Ленина в «Красном колесе»: с одной стороны, его постоянная рефлексия, проборматывание своих оценок происходящего; с другой — столь же постоянное раздражение, бьющее через край нетерпение — очень точный образ! — «безработной пружины». Но если разобраться, то как раз плотность исторического материала не только генерирует эту «двусмысленность», но и придает ей характер расщепления, исключительно психологически обусловленного. Раздвоенность Ленина, изнуряющие перепады его настроения — от ража, от бешенства, от неистового нервного напряжения к депрессии,— хорошо описал Вольский-Валентинов. Но солженицынский прием придает всему этому убедительность, психологическую достоверность. Так, или приблизительно так, и должен чувствовать и вести себя человек, одаренный редкой способностью к анализу и обуреваемый жаждой деятельности: постоянно обдумывать собранные на небольшом историческом «пятачке» события(собранные волею автора повествования или же исключительной способностью персонажа к анализу), соизмерять их со своими возможностями и раздражаться — или от отсутствия возможности действовать или по причине медлительности, неповоротливости событий. Все собственно идеологические мотивы поведения, как только (в рефлексии) они соприкасаются с уплотненной действительностью, неизбежно оборачиваются повышенной раздраженностью...
Солженицынское сжатие — это нагнетание исторических событий и страстей в особых исторических точках, обладающих имманентной способностью скапливать в себе, если так можно выразиться, активность истории, увязывать различные события, а точнее, их суть. Именно поэтому Солженицын — психолог, но психолог исторического процесса. Событие произошло Бог знает когда, но смысл его исторический, его истинное содержание обнаруживается много позже — в некотором историческом узле. И А. Солженицын безошибочно чувствует эти узлы истории, эти точки сцепления исторических сущностей. Одарен таким качеством и его Ленин, выявляющий подобные узлы чисто аналитически.
Выдающийся художник, стремящийся разобраться в психологии революции, выявляет узлы и концентрирует в них историческое действие. И эти узлы сближаются с теми, где максимально активен выдающийся аналитик — вычисляющий эти узлы.
Возможно, что А.Солженицыну удалось столь точно высмотреть некоторые особенности Ленина и потому, в частности, что оно чутко вглядывался в себя, находя, или чувствуя, определенную близость психологических состояний, связанную с ограниченными возможностями действовать при исключительных способностях к действию, при свербящем ощущении собственной силы. Но в случае А.Солженицына все напряжение снимается творчески – исключительно в нем самом. Для внешнего же окружения остается эффект несомненно побочный и второстепенный – величественная двухцветность автора, его воинственное «манихейство»..
4
Исторической личностью, на первый взгляд, мало подвластной обстоятельствам житейским и случайным, дан в «Августе» Столыпин. И чисто психологически его ситуация противоположна той, в которой оказывается как Ленин, так и Николай II: личность с редкостными способностями к государственному правлению, допущенная к этому правлению...
Но это только на первый взгляд, поскольку те шестнадцать глав, составляющих треть объема «Августа», где А. Солженицын, отвлекаясь от описания трагедии самсоновской армии, выстраивает из пока явно второстепенной фигуры Ленартовича громадную боковую ветвь (история российского революционного террора — Богров — Столыпин — Николай II), где дана предыстория августа четырнадцатого, и все пропитано исторической предопределенностью, где с нарастающей очевидностью проступает мысль, что не только Самсонов в августе, но и вся 150-миллионная Россия постепенно готовится к жертвоприношению,— именно эти главы оказываются и той частью первого узла, где историческое кредо Солженицына-художника ( живая, живущая, капризная и подвластная деспотии случайностей история) проявляется с впечатляющей убедительностью. Потому, возможно, и впечатляющей, что центральной фигурой этой ветви является монолитная фигура Столыпина.
Общая оценка Столыпина, развернутая А. Солженицыным в «Августе», удивительно перекликается с оценкой Ленина: «Столыпин пытался в старые мехи влить новое вино, старое самодержавие переделать в буржуазную монархию, и крах столыпинской политики есть крах царизма на этом последнем, последнем мыслимом для царизма пути». Этим-то ощущением последнего мыслимого пути и пронизан солженицынский портрет Столыпина.
Столыпин не только постигает суть развернувшегося в 905—906 годах российского кризиса — «коренное неустройство крестьянской жизни», но и предлагает последовательно эволюционный выход из него: без отчуждений и конфискаций, без даже частичного, закладывающего основу для будущих переделов покушения на частную собственность, но за счет формирования, на законных основаниях, при помощи и поддержке государства, нового собственника — крестьянина. Этот путь категорически не вписывается в революционную ситуацию того времени; он требует предварительных жестких мер, сбивающих пламя «пожарно-революционной войны»; он нереален без сокращения представительства крестьян в Думе и без увеличения представительства землевладельцев; наконец, чтобы выйти на этот путь, необходимо уложить свои замыслы «в русло монаршей воли». Эффективной и действительно оптимальной подобная программа видится лишь из сегодняшнего дня — таковой ее делает отрицательный исторический опыт России. Но тогда это был путь преодоления тотального сопротивления: и сорвавшейся в поджоги и грабежи крестьянской России, и ее представительного органа, фатально, как теперь становится ясным, не способного возвыситься над заботами текущего дня, и возрастающего по мере стихания революционного ража сопротивления изживающей себя системы власти, тех самых всесильных и бессильных высших ее сфер, которые и поставят в конце концов последнюю точку в столыпинской судьбе.
Трагически, в полном одиночестве противостоит Столыпин высшим сферам российской власти, не реформируемым в принципе,— они могли лишь изжить себя: довести страну до нового всеобщего взрыва и исчезнуть в нем. И по мере того как отступала революционная волна — единственная серьезная опора столыпинских реформ, им же последовательно подтачиваемая, он неизбежно терял влияние на императора и становился все более легкой добычей сфер. Он умиротворил российское общество — Россия вступала в полосу относительно устойчивого развития, но теперь неустойчивым становилось положение того, кто ее на этот путь выводил...
Уникальная по своим возможностям личность, получившая не только мыслимый, но и реальный шанс увести Россию от вызревающей внутри нее катастрофы — так, с одной стороны, воспринимается солженицынский Столыпин. Рационален и самоуправляем, значит, исторический процесс — в нужный час, в нужном месте его способность к эволюционному развитию так или иначе непременно материализуется... Но этот процесс в то же время консервативен и инерционен: исчерпывающий себя государственный строй с необходимостью генерирует вокруг высшей власти оболочку неконтролируемого, иррационального, политически распутного влияния. И решающим моментом в преодолении этой инерции оказываются, увы, не исключительные личные данные выдающегося реформатора, а фактор из числа исторических случайностей — личные качества царствующего императора...
»...В такие годы такой Государь...»
В две концентрирующих случайное в истории скобки заключена А. Солженицыным судьба столыпинских реформ — двумя индивидуальными, а следовательно, исторически случайными волями определяется она. Сверху — волей беспомощного, смиренно отдавшегося историческому потоку, плачущего императора. Снизу — волей взнуздавшего свою историческую роль дерзкого террориста. Этими скобками, присутствующими в «Августе», как формально (главе о Столыпине предшествует история жизни Богрова, эта глава замыкается рассказом о Николае II), так и по существу, Солженицын-художник решительно надламывает в своем повествовании жесткий стержень исторической необходимости — «заставляет» историю жить, капризничать и совершать ошибки.
Именно Богрову отдает А. Солженицын наиболее полное и глубокое понимание роли Столыпина: в нем «...собралась вся неожиданная сила государства», он «...сломал хребет революции... Режиму внезапно повезло на талантливого человека. Он неизгладимо меняет Россию —но не в европейском направлении, это видимость, он оздоравливает средневековый самодержавный хребет, чтобы ему стоять и стоять...» Это понимание, казалось бы, дает выстрелу Богрова определенную идеологическую нагрузку, особенно если увлечься поиском в его поведении мотивов надличностных, как это делает, например, А. Янов, старательно вылущивающий из богровских главок «Августа» все хоть сколько-нибудь «змеиное». Но история Богрова предстает у Солженицына историей отнюдь не заговора, а мятежа — против всего и вся — «свободной индивидуальности». Поэтому метания, изнуряющая рефлексия, фантастический авантюризм. Поэтому психологически убедительной становится с л у ч а й н о с т ь его выстрела. С необыкновенным терпением выстраивает А. Солженицын длиннющую, змеющуюся цепочку вибрирующих состояний Богрова. Пульсирующая в нем студенистая смесь из ощущений собственной неполноценности, амбициозности, разрушительного, построенного на отрицании – на отрицательном уме - стремления утвердить себя именно в разрушении, смесь, которая в иное время и в иных обстоятельствах должна была бы разродиться какой-нибудь частной, сугубо бытовой и мелочной местью, извергает из себя судьбоносное для великой страны действие.
История Богрова, таким образом выписанная и втянутая А. Солженицыным в узел августа1914 года, создает ощущение исключительной хрупкости истории российской. Все сгнило, выродилось, исчерпало себя — потому и слетаются, как вороны, случайности...
5
Из числа лиц исторических, пожалуй, лишь Самсонов разработан в «Августе» как образ вполне классический. Уровень индивидуализации, особости, достигнутый в этом образе А. Солженицыным, настолько глубок, что создается впечатление какой-то холодной отстраненности Самсонова от разворачивающихся с его участием исторических событий, и потому вполне правдоподобной может показаться иллюзия, что источник его трагедии в его личной ограниченности, что его губит недостаток внутренней энергии. Но как раз именно Самсонов находится у А. Солженицына в наиболее полной зависимости от внешних, помимо его воли действующих обстоятельств. Его положение, увы, безвариантно. И отнюдь не звездный свой час пропускает он в августе 1914-го, а переживает судный свой час. И первым — судный час всей России.
Превентивная жертва истории, жертва-предостережение. Первая из очередных жертв, принесенная Красному колесу — еще даже не красному, даже не порозовевшему — белому, скорей... В инертном, безвольном движении его армии с парадоксальным разворотом вправо от направления оптимального уже заключена символически вся будущая судьба России...
Из тихой, размеренной жизни провинции вырастает повествование А. Солженицына: 1914 год, август, цивилизация медленно вкатывается в свой двадцатый после рождества Христова век, напутствуемая простыми, но передающими суть христианства словами — итогом жизни Льва Толстого: «Тольколюбовью « …Чтобы опровергнуть, усомниться в правоте этого итога и с невиданной еще жестокостью отвергнуть, отбросить его — нахлебаться кровью, распластаться в грязи... Коленопреклоненная стотысячная толпа перед Зимним — «Вся родина сплотилась вокруг своего Царя» — сплотилась в чувстве любви... Двухвостая комета, солнечное затмение... Знаки, сплошные предостерегающие знаки внутри России и над ней... И медленно разворачивающееся в такой же знак повествование о трагедии самсоновской армии...
Вправо, на соединение с уже начавшей кампанию первой армией, Самсонова подталкивают интересы монархической России. Хранительница славянского достоинства, она не может смириться с сараевским покушением на свой престиж. Она увлечена своей «исторической» ролью. Она в крайнем —крайнемправом— своем ослеплении спешит на помощь республиканской Франции — упрямо заворачивает самсоновскую армию, над левым флагом которой, а спустя три года и над левым крылом всей России, оказываются немцы: над армией — немецкие дивизии, над Россией — немецкие, из числа самых радикальных, идеи...
Распластанная в лесах и болотах, раздемобилизованная многодневным беспрепятственным скольжением по чужой земле, расслабленная начавшимся мародерством, но отчаянно цепляющаяся за жизнь самсоновская армия. Стихия случайно складывающихся ситуаций, озарений, промахов, абсурдных решений. Гибнущие арьергарды. Разгром, развал, крушение и — взлеты человеческого духа. И бестолковщина, лютая, давящая...
Воистину чудовищным кажется это скопление бездарностей в командующей верхушке самсоновской армии. Оно у А. Солженицына настолько неправдоподобно, что случайным его уже не назовешь — проступает за всем этим некий отбор, селекция, годами государственной системой проводимая и лишь проявившаяся с очевидностью здесь, в Восточной Пруссии, в критический момент. В зловещий символ превращается в «Августе» безразлично-обреченное стояниекомандующего 13 корпусом Клюева — в четырех верстах от Хохенштейна, где 15 августа решалось все, где шансы спасти кампанию были еще достаточно велики. Так же, в таком же тупом оцепенении стояла после Столыпина и вся Россия, безвольно, бездеятельно, с непреклонной надеждой, что все все-таки обойдется.
Однако и жестко предопределенная судьба самсоновской армии не оказывается у А. Солженицына вне поля действия индивидуальной человеческой воли. Как суетно-беспомощен его Николай II в дни принятия решения о начале войны — здесь, на уровне высшей государственной власти, все случайное как раз и оказывается предопределяющим... Финальная же сцена «Августа» уже не оставляет на этот счет никаких сомнений.
Приведя в ставку Верховного Главнокомандующего своего свидетеля самсоновской катастрофы — своего главного вымышленного героя,— А. Солженицын дает ему исключительный шанс «повлиять на ход всей военной машины» и — безжалостно показывает всю фантастичность этого шанса. Верховный, второе в данный момент лицо в государстве, и — реальность, сконцентрированная в том, что волею автора дано увидеть и понять Воротынцеву в Восточной Пруссии. Это сближение и есть тот сюжетный, чисто художественный ход, который превращает все ассоциативные связи «Августа», все легкие и жесткие его сцепления в единый энергетический сгусток — в единый крепкий узел. Воротынцев рвется раскрыть великому князю глаза на суть случившегося: это не неудача, а «полный разгром»; если вся вина — на Самсонове, то тогда «такие катастрофы будут повторяться, и мы рискуем проиграть всю войн у !!!» Верховному же ясно другое: для спасения России не на фронтах нужно выигрывать — надо выиграть прежде всего «крупнейшую придворную битву за сердце государя»: убрать нечистоплотного военного министра, «отлучить от Двора грязного Распутина, ослабить императрицу»; а потому не нужно усиливать их партию озлобленным командующим фронтом — достаточно попугать его Воротынцевым... К тому же и сам император своей милостивой телеграммой — «Но подчинимся Божьей воле. Претерпевый до конца спасен будет» — «указал великому князю другой путь: путь прощения...»
Приговором всей государственной власти звучит впечатанная А. Солженицыным в текст пословица: «Молитвой квашни не замесишь...»
Отчаянный вопль снизу о дошедшем до предела неблагополучии, со всей очевидностью обнаружившемся уже в первые недели войны, и это легкомысленное утешение сверху — претерпевай...
Полный паралич власти. Все теперь неудержимо двинется к революции. В сражении за сердце государя, уж ежели эта битва оказывается решающей, победителем быть только ей.
6
В нобелевской речи А. Солженицына есть прекрасное рассуждение о художественном образе как абсолютном средстве проверки истинности идеи, концепции. Не лишен подобного — проявляющего — свойства и созданный А. Солженицыным в «Красном колесе» образ российской революции...
Основные исторические идеи самого А. Солженицына предельно ясно высказаны в «Августе», судя по всему, Варсонофьевым: «государство... не любит резкого разрыва с прошлым» — разрушительны для него перерывы и скачки; «история — иррациональна», не разумом правится она, а «растет как дерево» — «разум для нее топор», струится как река со своими «законами течений, поворотов, завихрений»; «связь поколений, учреждений, традиций, обычаев — это и есть связь струй», непрерываемая связь. Эти идеи несомненно являются априорной основой всего солженицынского повествования; и та «борьба», которую А. Солженицын на страницах «Красного колеса» ведет с исторической необходимостью, последовательно подчиняя исторический процесс случайному, есть не что иное, как отражение идеи иррациональности истории.
Это пленительное свойство — иррациональность — и делает создаваемый образ (истории, революции) живым — растущим и струящимся. А значит, не только отражающим иррациональное, но и — подвластнымему... И вот этот мерный поток новейшей российской истории под пером А. Солженицына (в художественном образе, создаваемом им) постепенно, накапливает в себе все, что не было изъято своевременными, разумными действиями, и — оказывается зажатым в тиски: с одной стороны, громадой бессмысленной мировой войны, с другой — гигантским оползнем вырождающегося государственного строя. И некуда теперь деваться российской реке, кроме как показать свой норов — обрушиться падением,разрывом...
Казалось бы, действительно извне нарушен широкий российский плес революционными воронками — механически закручен и только. Но длится повествование о российской, иррационально текущей истории, и с каждым поворотом событий все более очевидным становится, что источник этих бурунов, этих нарушений — внутренний, российский, что каждым своим случайным шагом Россия неуклонно идет к революции — цепь случайностей неукротимо выстраивается в вибрирующую, зазубренную линию необходимости.
И трансформируется исходная историческая концепция автора — обтачивается им же созданным образом; и все заметнее склоняется к иной, и заметим, вполне марксистской версии событий.
Цивилизация не успела еще поумнеть и прозреть настолько, чтобы осознать губительность попыток разрешать межгосударственные недоразумения силой; она еще даже не задумывается о необходимости управляемого устранения социальных напряжений (она бы и не осознала и не задумалась , без тех потрясений, на которые последняя обрекла ее в XX веке). Держащие в своих руках власть все еще не подозревают, что силовые методы напрягают теперь всюцепь государств, и под смертельной угрозой оказывается слабейшее ее звено...
Если внимательно приглядеться, то именно эта версия и рождается непроизвольно на страницах «Августа», начинает свою скрытую жизнь в «Красном колесе». Все «Колесо»,собственно, и есть повествование о слабом звене: о подпольной жизни занесенных идей, интенсивно прорастающих в наметившейся зоне разрыва, о неспособности государственной власти вовремя усилить слабеющее звено и вывести его из области риска, об ослеплении внезапно нахлынувшей свободой, о слабостях иных, до времени скрытых и не вовремя раскрывшихся...
Российская власть живой из этой войны не выйдет — это ощущение кружит уже над текстом «Августа». Причем по мере появления поздних узлов все больше начинает казаться (это отмечает, в частности, и Ж. Нива), что подлинным виновником катастрофы 17-го года являются не столько большевики, сколько русские либералы. В таком смещении «центра» вины, видимо, и находит одно из своих выражений трансформация исходной исторической концепции А. Солженицына. Так оно и должно, скорей всего, быть. При ближайшем рассмотрении — большевики, занесенное из Европы «чертово семя». При ближнем — отечественные либералы. При дальнем же — вина может переместиться и на Россию в целом. А при взгляде наиболее спокойном и отвлеченном от политической суеты — то есть из конца исторического процесса (а именно такой взгляд, по мнению Н. Бердяева, обретает истинную объективность) источник вины может оказаться и в самой истории, которая и вовсе ни в чем не виновата...
Большевизм в непримиримой и ортодоксальной форме выразил веками вызревавшую идею справедливости, выразил в крайнем, перевернутом относительно всей предыдущей истории варианте: справедливость как удовлетворение потребностей обездоленного большинства и полное лишение всех прав для тех, кто ранее, так или иначе, попадал в верхние общественные слои. То есть полная — и политическая и экономическая — инверсия общества. Отсюда большевистское «либо — либо»: либо демократия (то, что дает права большинству), либо либерализм (то, что допускает и признает права всех). Такая поляризация, кажущаяся нашему, просвещенному историческим опытом, сознанию варварской, исторически, видимо, была неизбежна и, более того, оправдана. Либеральные идеи, скорей всего, не могли на российской почве развиться в сколько-нибудь устойчивой и тем более сулящей политическую устойчивость форме без опыта этой крайней — большевистской — поляризации. Либерализм столыпинских преобразований (постепенное расширение прав большинства, постепенное расширение его прав на собственность), неспешный, тщательным образом примеренный к российской реальности и шаг за шагом всю реальность охватывающий, роли решающей, необратимо перестраивающей ситуацию сыграть не мог — об этом, в частности, солженицынский «Август». Либерализм же более последовательный, соединившись с российской почвой, коль скоро такое соединение было обеспечено рухнувшей государственной властью, в считанные недели превратил истомившуюся почву в клокочущую, неуправляемую стихию, и немедленно создал условия для антилиберального — «демократического» по канонам большевизма — переворота.
Инверсия... разрыв... уничтожение исторически сложившейся элиты и замена ее элитой новой — пролетарской, люмпенской, партийной, низовой, элитой братишек и кухарок... толстовское «переворачивание телеги» — все это оказалось для России неизбежным.
И без этой выпавшей на долю России исключительной платы ни идея всеобщих прав, ни идея отказа от безусловной элитарности тех или иных классов не смогли бы получить того быстрого распространения в других странах, которое имело место в XX веке.
По большому счету А. Солженицын — прав: история иррациональна и отторгает даже такие — самые деликатные из самых разумных — вмешательства в свой ход, как столыпинские преобразования. Но иррациональна она не только в своем плавном течении, но и в своих обрывах, скачках.
8
Сегодня, на дымящихся развалинах духовного идеализма особую популярность приобрела идея неотвратимости конца классической российской литературы. Реквием по ней исполняется на страницах едва ли не всех изданий: десакрализация литературы неизбежна, и вопрос лишь в том, на сколько длительным и болезненным будет этот процесс.
В такой ситуации А. Солженицына, может быть, и можно «сватать» в первые жертвы. Но далеко не очевидно, что десакрализации именно с ним удастся легко справиться,— возможно, он и станет одним из неодолимых препятствий, положит начало сопротивлению теперь уж не только своей идеологией, но и своим художественным творчеством — спасенным, отвоеванным и утвержденным в нем идеализмом. И тогда, возможно, сквозь солженицынское противостояние конкретному злу окончательно проступит его противостояние злу как таковому... И тогда, возможно, окажется, что не в «отсутствии достаточно объемного воображения» заключен «грех» А. Солженицына, а наоборот — в избытке такого воображения, осложненного разве что слепящей, поверхностной — то есть в поверхности сосредоточенной — идеологичностью... И что истинно грешны — мы: на этот объем мы попросту смотрим сегодня из плоскости..
.Да, «Красное колесо», действительно, создавалось как орудие взламывающее, стенобитное. И в этом смысле оно оказалось сегодня как бы и ненужным, не до конца использованным орудием: стена развалилась и без него — А. Солженицын опоздал с «Красным колесом». С таким вердиктом можно было бы и согласиться, если бы это повествование не оказалось средой вызревания идей, куда более общих и значительных. Если бы глубочайшее исследование психологии революции, произведенное А. Солженицыным, не превратило бы итог, выстраданный цивилизацией за XX век (эра революций окончена, их надо предчувствовать, предвидеть и избегать, будущее человечества или не состоится или будет эволюционным), из декларации, из некоего априорного рационального результата в объективно неопровержимое утверждение — в художественно опосредованный результат.
Казалось бы, немногое требуется от художника: встать и «стоять поперек времени» — вглядеться в бытие, проникнуться им, отдаться ему страстно и отрешенно. И если Бог не обидел талантом, то золотая жила непременно откроется. Так вот и А. Солженицын...
Сосредоточенно погружаясь в это почти космическое явление — российскую революцию, - он загоняет его в жесткие рамки окончательной исторической истины: сжимает это явление не только в отмеренных сроках, но и в тисках своих субъективных оценок. Циклопический охват, фантастическая концентрация субъективно воспринятого материала и создают условия, в которых робкое зернышко действительно исторической истины начинает свой рост, свою собирающую кристаллизацию. Именно сжатость пространства, времени и концептуальная несвобода понуждают перекристаллизовываться спрессованный материал.
Подобная процедура безусловно является приоритетом времени — самого мощного пресса и открывателя смыслов. Что же касается А. Солженицына, то он делает то, что до него делалось и после него будет делаться всеми великими художниками: он пытается выполнить роль еще не наступившего времени — своим интеллектуальным усилием, своим вдохновением сжимает прошлое. Естественно, что для такой операции требовалась незыблемая точка опоры. И ею могла стать только собственная непримиримая и несгибаемая историческая концепция. Будь А. Солженицын хоть чуточку объективнее, будь он хотя бы немного уступчивее, и все его усилия оказались бы напрасными — сжатая масса осталась бы бесплодной, ее попросту не удалось бы довести до плодородящего состояния.
Страстная субъективность, последовательность страстных ошибок и заблуждений и как награда — мерцающий и пугающий своими неожиданными очертаниями силуэт истины. Как награда за исключительно высокие требования к себе, за ставку на истину, за желание и умение «выгребать» выше намеченной цели... Он, может быть, и проигрывает в каждой частности. Но выигрывает — в целом.
Так получается у него в «Красном колесе»... Так получается и в чистой публицистике. И его статья «Как нам обустроить Россию» в этом смысле особенно показательна.
В солженицынских посильных соображениях, увы, находят подчас лишь совокупность практических предложений, опоздавшую на полстолетие политическую программу. Нарочитая архаичность делает их удобным объектом для критики — из поля зрения оппонентов, намертво привязанных к политическим потребностям дня, полностью выпадает центральная идея этой работы: все так же категорически поданная солженицынская мысль об эволюционности истории.
Явные частности, явные заблуждения — этот строительный материал центральной идеи — увы, концентрируют на себе главное внимание, и перед читателем возникает, по существу, та же проблема, что и перед автором: А. Солженицыну приходится «выгребать» на свою идею под напором фактического материала истории, читателю же — нужно выстоять перед напором конкретных частных оценок А. Солженицына — не захлебнуться в несогласиях и, удерживаясь за точки согласий, овладеть стержневой идеей. Не овладев ею или отбросив ее, вы обречены признать: А. Солженицын тянет Россию назад, тщится развернуть ее к ее же ледяным восточным равнинам. Но приняв — можно увидеть не поворот, а всего лишь восстановление разорванного пути (пути, конечно же, в западном направлении — куда от этого деться,— но только в крест, с пересечением).
И тогда и солженицынская ностальгия по земству, по сословному представительству, и его атака на «четыреххвостку», и вся его политическая программа в целом предстанут прежде всего не чем иным, как лечебными примочками на раны, нанесенные XX веком российскому национальному духу, без излечения которого на какие-либо устойчивые изменения в современной России рассчитывать не приходится.
Солженицынские предложения вряд ли найдут применение прямое, непосредственное. Они из числа гомеопатических средств, и их влияние ощутимо почувствуется разве что в более или менее конечном результате.
9
Нет сомнений: А. Солженицын является одной из самых противоречивых фигур в истории отечественной словесности, и именно по этой причине, независимо от колебаний политической и литературной конъюнктуры, его творчество будет предметом все более пристального внимания. Сейчас мы видим, в основном, внешнюю, явную и очевидную, сторону его противоречивости и спешим, порой не без сладострастия, зафиксировать, застолбить ее самым тривиальным образом: «Солженицын. Который?» Но А. Солженицын, к счастью, един. И с этим придется сначала согласиться, а потом уж и разобраться.
Противоречивость противоречивости, как известно, рознь. Есть та, что питается ясными, но рассогласованными идеями, которые, отторгая друг друга, неизбежно расщепляют и лик автора. Здесь наблюдающему со стороны, действительно, надо торопиться, чтобы первому прокричать: «А король-то голый!..» Распадающаяся на фрагменты концепция дает превеликое множество поводов для развешивания глубокомысленных и ироничных сигнатурок — была бы охота эти сигнатурки заготавливать и пришпиливать.
Но есть и другая противоречивость, которая идет от идей не проясненных, но глубоких, которая является результатом столкновения мощного, целостного таланта с действительностью, результатом его посягательств на узловые проблемы бытия. Внешний эффект здесь тот же — расщепленность автора, расстыкованность его идей и оценок. Суть же — иная. И как смешны, наивны и не умны здесь легковесные сигнатурки...
А. Солженицын взвалил на себя слишком тяжелый груз, чтобы рассчитывать на спокойное пребывание в отечественной литературе, на елейно-почтительный тон. И понадобится, видимо, довольно-таки длительное время, чтобы его перестали дергать по мелочам и частностям. До тех же пор, пока его конкретные оценки не утратят остроты, до тех пор, пока наша цивилизация не выйдет из того метастабильного, неравновесного состояния, в которое на границе двух веков ее перевела (нет, не российская революция, она и ее трагические последствия лишь подчеркнули, указали на метастабильность) история, до тех пор, пока завеса актуальной социальности будет скрывать глубинное содержание творчества А. Солженицына,— до тех пор и укорять и восхвалять его будут в одинаковой мере.
Плохо различаемая сквозь гул реальности XX века истинная суть всех солженицынских текстов со временем проступит неизбежно, и каждый текст его окажется и удачным, и к чему. Не будем торопиться — наберемся терпения и подождем, когда заложенный в «Красном колесе» процесс завершится: когда спрессованный в нем фактический материал соединится с противостоящей ему и сжимающей его концепцией. И эта аннигиляция даст то, что предсказывает в таких случаях фундаментальная теория — даст два кванта... чистой духовности.

















